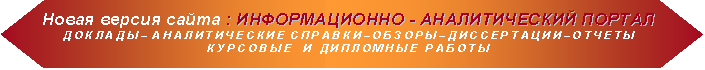 |
Московский Государственный Университет
Имени М.В. Ломоносова
Институт Стран Азии и Африки
Кафедра китайской филологии
*
Художественное своеобразие прозы Цзя Пинва.
(от повестей к роману "Тленный град")
магистрская диссертация
магистранта 2-го года обучения
П.В. Богачко
Научный руководитель: Д.Н. Воскресенский
Москва 2001 г.
Содержание.
Введение…………………………………………………....………………………...………….1
Глава 1. На пути к "Тленному граду"…………………………………………...……….8
1. Цзя Пинва – сын Шанчжоу……….…………………………………………...…...………8
2. От эссе и очерков к роману………….…………………………………….…….…...……19
а. Начало 80-х. ("Очерки о Шанчжоу", роман
"Шанчжоу")…………………………….19
б. Середина 80-х. ("Небесный Пёс" и "Предел
человеческий")…………..………….....25
в. Конец 80-х – начало 90-х. ("Нетерпение", "Застава
Будды")………...……………….30
г. Девяностые. ("Тленный град")……………………………………………...………...…39
3. "Тлен" девяностых…………………………………………………………….……….....43
Глава 2. Роман "Тленный град"………………………………………………..…...……52
1. "Тленный град" – "Неофициальная история"
современности…………...…….…54
2. "Праздные люди"………………………………………………………...………….……62
3. Женские образы "Тленного града"……………………………………..………...……74
4. Чжуан Чжиде: герой романа и его
автор……..………………………..…………...…87
Глава 3 Особенности поэтики……………………………………………….…………..102
1. Ирония и юмор в романе "Тленный град"...………………..…………….…………102
2. Фантастический реализм Цзя Пинва…………………..………………….………….118
3. "Сферы видения" в произведениях Цзя Пинва
…....….……………………………136
Заключение………………………………………………….………………….……………151
Приложениие:
1. Переводы:
"В горах Шанчжоу"………………………………..………………………155
"Автобиография"………….…………………………..…………………….162
""Тленный град". Послесловие"………………………….………………172
"Золотая пещера"……...………………………………………………184
2. Библиография……...……………………………………..………………..…...199
3. Список произведений до 1998 г. (на китайском
языке)…….……….…203
4. Образцы живописи и каллиграфии Цзя Пинва…………….…………...205
Введение.
Цзя Пинва – одно из наиболее значительных имён в литературном
мире современного Китая. Он принадлежит к своего рода "современной культурной
элите", недаром в 1999 году его имя вошло в список 99-ти "культовых" деятелей
искусства (в том числе и популярного), таких как: режиссёры Чжан Имоу и Чэнь
Кайгэ, писатели Су Тун, Е Чжаоянь, Лю Сола и Лю Синьу, певица Ван Фэй, рокер Цуй
Цзянь, актёр Джеки Чан и актриса Гун Ли. Творчеству и личной жизни этого
писателя посвящены многочисленные статьи и даже книги, авторы которых пытаются
ответить на вопрос, в чём же секрет этого "фаустовского дарования" или, как его
нередко сейчас называют, "демонического таланта" (鬼才) (одна из книг, посвящённых
его жизни, кстати, так и называлась "Демонический талант Цзя Пинва" ("鬼才贾平凹")).
Богатая эссеистика Цзя Пинва в большинстве своём посвящена его
собственным интересам и вкусам, определяющим присущее ему особое
"художественное" восприятие действительности. Так, например, в философии ему
близки даосские (Лаоцзы и Чжуанцзы) и чаньбуддийские мотивы. В литературе он
выделяет творчество Цюй Юаня, Сыма Цяня, Тао Юаньмина, танских поэтов Ли Хэ и
Цзя Дао, сунского поэта Су Дунпо, романиста Цао Сюэциня, автора "Шести записок о
быстротекущей жизни" Шэнь Фу, новеллиста Пу Сунлина. Из современных мастеров в
своих эссе и интервью он упоминает имена Шэнь Цунвэня, Чжоу Цзожэня, Линь
Юйтана, Чжан Айлин, Сунь Ли, своих знаменитых земляков: шэньсийских писателей
Чэнь Чжунши (автора "Повествования о семействах Бай и Лу" ("白鹿原")) и Лу Яо,
режиссёра Чжан Имоу и ещё многих других. Из авторов вне Китая Цзя Пинва говорит
о Ясунари Кавабате, Габриэле Маркесе, Эрнесте Хэмингуэе, Джеймсе Джойсе и
Рабиндрабате Тагоре. Все эти люди в старой и современной, китайской и зарубежной
истории известны своей необыкновенной судьбой и незаурядным талантом. Цзя Пинва
увидел и оценил присущую им "своеобычность", которая, видимо, близка его духу и
его умонастроениям.
Цзя Пинва – действительно, "удивительная" и по своему выдающаяся
личность. Родился он в простой крестьянской семье в одном из богом забытых
горных селений провинции Шэньси, где и провёл свои детство и юность. Однако
благодаря особому "художественному" мировосприятию, а также разносторонним
талантам и интересам (а он известен своим увлечением живописью и каллиграфией,
кроме того, он – коллекционер и тонкий ценитель предметов старины), Цзя Пинва
сумел "войти в мир большого искусства" и стать одним из наиболее почитаемых (и
читаемых) ныне авторов. Как писал его биограф Фэнь Ююань, "своей жизнью он
создал уникальное художественное пространство, а своими произведениями –
прекрасный дворец искусства в этом пространстве". [Б,11,289]
Говоря о творческом облике писателя, нельзя не отметить его
необыкновенную "плодовитость", а также разнообразие его произведений. В вышедшем
в 94 году восьми-томном собрании сочинений Цзя Пинва (а автору тогда было всего
42 года) можно найти поэзию, прозаические произведения – рассказы, повести и
несколько весьма крупных романов. К этому надо добавить эссеистику, которая
составила целых два тома в его собрании сочинений. В феврале 2001 года писателю
исполнилось 49 лет. За четверть века своей профессиональной литературной
деятельности он написал 8 романов, несколько десятков повестей (более 40-ка),
сотни эссе. Общее количество изданий его книг перевалило за сто. Его повести и
эссе постоянно переиздаются и пополняются новыми. Кроме того, особой
популярностью пользуются альбомы с его весьма оригинальной каллиграфией и
живописью (как признавался сам Цзя Пинва, это "хобби" приносит ему гораздо
больше денег, чем его профессиональный писательский заработок).
Уникальность его как писателя заключается в самобытности и
оригинальности его художественного осмысления действительности. Цзя Пинва –
писатель, обладающий собственным видением и стилем. Ему свойственно органическое
неприятие разного рода антилитературных теорий и искусственных шаблонов. В своём
творчестве он не ограничивает себя узкими рамками художественного метода
реализма, но, с другой стороны, он не поддаётся и соблазну механического
копирования приёмов западной модернистской и постмодернистской литературы,
ставшей своего рода "образцом для подражания" для многих китайских писателей
последних двух десятилетий. Стремясь, как он говорит в одном из эссе,
"соединенить традиционное китайское мироощущение с литературным сознанием
современного человека", Цзя Пинва обратился к изучению современной философии,
литературы и эстетики, после чего вновь, но уже на более осознанном уровне,
вернулся в своём творчестве к питающим его "истокам" – древней и средневековой
китайской литературе. Благодаря этому ему удалось соединить принципы
традиционной культуры с элементами западного модернизма и таким образом
сформировать особенное художественное пространство.
Творчество Цзя Пинва не замыкается в пределах какого-либо одного
литературного направления, формируясь как бы на стыке литературы "поиска
корней", "культурной прозы" и "авангарда". Не будучи до конца ни
традиционалистом, ни модернистом, он обладает собственной уникальной манерой.
Изображая жизнь конкретного ареала, писатель не "переигрывает", когда он пишет о
быте или использует местный диалект, не создаёт искусственно стилизованной
художественности. Мир его произведений реален, он наполнен деталями достоверного
бытия, однако изображён в особой, присущей только ему манере, одной из
особенностей которой является отражение "потаённого духа традиционной
крестьянской культуры", связанного с фольклорными и этнически самобытными
пластами местной культуры – мифами, легендами и религиозными верованиями.
Все это уже в середине 80-х годов выдвинуло Цзя Пинва в ряд
наиболее популярных авторов, наряду с Ван Мэном, Су Туном, Хань Шаогуном, Мо
Янем и др. Однако настоящая, правда, отчасти скандальная известность пришла к
нему в связи с публикацией романа "Тленный град" ("废都", 1993г.), о котором, в
основном, и пойдёт речь в данной работе. В этом романе Цзя Пинва обратился к
проблемам, которые официальная мораль того времени стремилась по старой привычке
”оставить за скобками”, а именно – теме искусственности и фальши социальных и
трагической извращённости человеческих отношений в современном обществе. Причём,
как бы заостряя проблемность произведения, автор отразил духовный и нравственный
кризис общества через призму сексуальных отношений своих героев. Роман имел
такой резонанс в материковом Китае, что был сразу же признан "событием года".
Однако в то же время он вызвал и яростные нападки со стороны консервативно
настроенной критики. "Тленный град" был сочтён ортодоксами крайне вредным и даже
аморальным произведением и через некоторое время полуофициально запрещён, что,
прада, лишь послужило дальнейшему росту популярности автора и его произведения.
Рынок ответил на запрещение романа огромными тиражами пиратских изданий, а также
целым рядом подделок "под Цзя Пинва" – своеобразных "продолжений и переложений"
"Тленного града" вроде романов "Город демонов" ("鬼城") и "Столица империи"
("帝京"). Кроме того, "Тленный град" почти сразу же был издан в Гонконге (в
1993г.), на Тайване (в 1994г.), в Японии и Корее (в 1994г.).
Как представляется, моментом, вызвавшим наибольшее недовольство
официальной критики и повлёкшим запрещение книги, было не эпатирующее обилие
эротики и низкого юмора, а, скорее, стремление автора обнажить в своём
произведении глубочайший культурно-мировоззренческий кризис современного
(причём, не только и не столько китайского) общества, не приукрашивая общей
мелодии произведения оптимистическими нотками. Такой универсальный
художественный подход вывел роман за рамки исключительно национальной китайской
литературы и определил его особое значение для мировой литературы, что и было
отмечено престижной французской литературной премией "Фемина" в 1997 году.
Роман "Тленный град" стал особым этапом в творческой биографии
писателя. Несмотря на видимое его отличие от романов и повестей предыдущего
периода, он явился итоговым произведением, в котором получили развитие основные
аспекты его художественной эстетики. В данной работе мы постараемся проследить
логику генезиса, который претерпела манера писателя в годы его творческого
становления, и обобщить важнейшие её особенности на основе непосредственного
анализа художественной ткани романа "Тленный град".
Из основных источников в работе использован оригинальный текст
романа "Тленный град" ("废都", 北京出版社, 1993г.), тексты повестей "Застава Будды"
("佛关", 1991), "Небесный Пёс" ("天狗", 1985г.), "Предел человеческий" ("人极"
1985г.), а также целый ряд эссе и интервью разных лет (см. раздел
"Библиография"). Кроме того, был привлечён обширный дополнительный материал в
виде литературно-критических статей и монографий, посвящённых как
непосредственно анализу самих произведений Цзя Пинва, так и литературной
обстановке Китая 80-90-х и месту, которое занимал в ней писатель. Среди наиболее
информативных источников глубоких хотелось бы отметить работы известного критика
Лэй Да, посвятившего отдельную статью анализу "Тленного града", литературоведа
Лю Цзайфу, ныне проживающего в США, но продолжающего внимательно следить за
всеми изменениями и тенденциями в литературном процессе материкового Китая,
профессора Фэй Бинсюня, детально проанализировавшего художественную структуру
ранних произведений Цзя Пинва и критика Ши Цзе, сосредточившего своё внимание на
чаньских мотивах в эстетике писателя.
К сказанному добавим, что важность этой работы связана и с тем,
что писатель мало известен за пределами Китая и особенно в России, хотя есть уже
переводы на иностранные языки (роман "Нетерпение", например, был переведен на
английский, "Тленный град" – на английский, французский, японский и корейский
языки, роман "Врата земли" ("土门", 96г.) – на японский, кроме того, в Пекине
издательством "Панда" на английском языке были изданы два сборника повестей:
"The Heavenly Hound" (1991) и "Heavenly Rain" (1996)). На русский язык на
сегодняшний день переводов практически нет, как нет и посвящённых его творчеству
критических статей и исследований. Кстати сказать, даже относительно
произнесения имени писателя на настоящий момент не существует достаточно
устоявшегося мнения. Дело в том, что первым словарным чтением третьего иероглифа
его имени 凹"ва" является: "ао", в связи с чем, как за рубежом, так и в самом
Китае многим читателям и исследователям он известен как "Цзя Пинъао". Однако,
как неоднократно пояснял сам писатель, третий иероглиф должен читаться именно
как "ва", так как он является "заместителем" другого омонимичного в диалекте
Шанчжоу иероглифа "ва" (娃) со значением "дитя", "малыш". В провинции Шэньси, на
родине писателя, его зовут именно Цзя Пинва – так себя зовет и сам писатель
(такая транскрипция ("Jia Pingwa"), кстати, отражена и в пекинских изданиях его
повестей на английском языке, хотя встречается и транскрипция "Jia Ping’ao").
Основная часть нашей работы состоит из трёх глав и Приложения.
В первой главе На пути к "Тленному граду" рассматривается
процесс формирования эстетики писателя, а также художественная специфика раннего
творчества Цзя Пинва (особый акцент сделан на анализе трёх програмных
произведений: повестей "Небесный Пёс", "Предел человеческий" и "Застава Будды").
В третьей части главы мы помещаем анализ литературной ситуации, сложившейся в
Китае к моменту публикации романа "Тленный град".
Глава имеет следующие разделы:
1. Цзя Пинва – Сын Шанчжоу
2. От эссе и очерков к роману
а. Начало 80-х. "Очерки о Шанчжоу", роман "Шанчжоу"
б. Середина 80-х. Повести "Небесный Пёс" и "Предел человеческий"
в. Конец 80-х – начало 90-х. Роман "Нетерпение", повесть
"Застава Будды"
г. Девяностые. "Тленный град"
3. "Тлен" девяностых
Во второй главе Роман "Тленный град" мы сосредоточились на
художественном анализе самого романа с акцентом на некоторых его содержательных
аспектах, связанных со спецификой изображения основных персонажей.
1. "Тленный град" – "Неофициальная история" современности
2. "Праздные люди"
3. Женские образы "Тленного града"
4. Чжуан Чжиде – главный герой и фигура автора
В третьей главе, давая анализ "Тленного града", мы уделим
внимание некоторым вопросам "Поэтики" произведений Цзя Пинва. Глава состоит из
трёх разделов:
1. Ирония и юмор в романе "Тленный град"
2. Фантастический реализм Цзя Пинва
3. Художественные "сферы видения" в произведениях Цзя Пинва
(категория "цзинцзе" (境界))
В "Приложении", кроме Библиографии, даётся Список произведений
Цзя Пинва, опубликованных к 1998 г. (на китайском языке), а также переводы трёх
его эссе и одого рассказа:
"В горах Шанчжоу" ("在商州山里", 1985г.)
"Автобиография" ("自转", 1985г.)
""Тленный град". Послесловие" ("废都后记", 1993г.)
"Золотая пещера" ("金洞" 1983г.)
В Приложении также приводится ряд образцов многообразного
художественного творчества писателя (живопись и каллиграфия), а также его
портреты, выполненные другими авторами.
ГЛАВА 1. На пути к "Тленному граду".
1. Цзя Пинва – сын Шанчжоу.
Цзя Пинва родился 21 февраля 1953 (-52?) года в небольшом
селении Дихуа, что в уезде Даньфэн провинции Шэньси. Эта местность – Шанчжоу –
находится в нескольких сотнях километров от древней столицы – Сиань, на стыке
трёх провинций – Шэньси, Хэнань и Хубэй. Горы Шанчжоу – самое сердце Китая,
колыбель китайской цивилизации. Говоря об особом историческом значении этого
края, писатель рассказывает, что, "начиная с Цинь Шихуана и вплоть до династии
Цин, Поднебесная пережила четыре "великих переселения", которые неминуемо
проходили через Шанчжоу, географически являвшимся единственным проходом на
юго-восток страны". [А,13,518] Такое особое положение создало уникальный
культурный сплав, сочетающий в себе утончённые традиции южных провинций с
суровыми обычаями севера-запада страны. Эти места связаны с именами таких
знаменитых поэтов, как Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэя, Бо Цзюйи, Су Дунпо, Хань Юя,
которые не раз бывали здесь и оставили тому немало свидетельств в своём
творчестве. В одном из своих эссе Цзя Пинва вспоминает стихотворение танского
поэта Вэнь Тинъюня "Утро в горах Шаншань", посвящённое красоте гор Шанчжоу
(перевод М. Басманова) [В,12,401]:
С рассветом снова в путь. Качнулся бубенец,
И сердце замерло. Как отчий край далёк!
Крик петуха. Свет призрачный луны.
Заиндевелый мост, следы от чьих-то ног.
"Но ещё более, – пишет Цзя Пинва. – горы Шанчжоу были знамениты
собственными выходцами, которые делились в основном на две категории – праведных
отшельников и свирепых разбойников". Среди последних он называет знаменитого Ли
Цзычэна – предводителя народного восстания, приведшего к свержению Минской
династии. [А,13,36]
Сам иероглиф "шан" (商)в названии, по-видимому, восходит к
древнейшей исторической династии Шан (16-11 вв. до н.э.), что говорит о связях
этого края с древнейшей историей Китая. В одной из своих повестей Цзя Пинва
обыгрывает название Шанчжоу в связи с легендой о Шан Яне (398-338 гг. до н.э.) –
политическом деятеле и мыслителе эпохи Чжаньго, оставившим после себя знаменитую
"Книгу правителя области Шан" (его настоящее имя было – Гунсунь Ян, он родился в
царстве Вэй и сначала звался Вэйский Ян. Позднее он получил феод в местности Шан
(Шанчжоу), почему его и стали звать Шанским Яном (Шан Ян)).
Прекрасно зная историю, нравы и обычаи этих мест, Цзя Пинва
органично вплетает в свои произведения элементы местного национального быта,
использует легенды и сказания, поныне живущие в этих краях, чем привносит в них
колоритную национальную образность и поэтичность. Как писал известный китайский
критик Лэй Да в предисловии к восьмитомному собранию сочинений писателя, "Цзя
Пинва – сын природы, сын простого народа, он – выразитель эстетического духа
Китая. Он вскормлен росой традиционной китайской культуры".
Говоря о родном крае, писатель отмечает первозданную красоту
этого горного района Китая. В одном из эссе Цзя Пинва пишет о своём не лишённом
поэтичности увлечении дальними прогулками, о том "захватывающем дух" восхищении,
которое он испытывает "блуждая по запутанному горному лабиринту Шанчжоу". Этому
миру, который стал особым "художественным пространством" писателя, свойственна и
вполне понятная идеализация. Вот как сам Цзя Пинва описывает эти места:
"Шанчжоу – удивительный, божественный край. Это, конечно,
глухомань, но о нём не скажешь, что он безлюден. Он беден, но необыкновенно
прекрасен. Большая его часть принадлежит бассейну реки Хуанхэ, но в то же время
он частично лежит и в бассейне Янцзы. Он представляет собой переход, который
тянется на протяжении восьмисот ли от долины Циньчуань к впадине реки Ханьшуй.
Здесь есть всё – горы и воды, реки и долины, свои местные нравы и обычаи. Эти
места славятся дикими и пустынными просторами на севере и в то же время таят в
себе божественную красоту юга. Здесь хлеба растут в изобилии, а времена года
чётко следуют друг за другом. Народ здесь по-своему мудр и лишён лукавства, люди
просты и безыскусны, и души их ничем не замутнены". [А,4,2]
Писатель восхищается людьми, живущими в этом заповедном мире.
Его завораживает присущая им естественность, их близость к природе. Этот горный
край – мир, незагрязнённый и неосквернённый городской (то есть мирской) пылью,
мир, где человек ещё не утратил связь с истоками, со своей истинной природой.
Шанчжоу очень много значит для Цзя Пинва, как писателя, это –
мир его детства и юношества (писатель провёл в этих краях первые 19 лет своей
жизни), это взрастившая его плодотворная почва, в которой проросли корни его
художественного творчества. Годам, проведённым в этом краю, посвящено
автобиографическое эссе (перевод мы помещаем в приложении), в котором писатель
говорит не только о "божественной красоте" этих мест, но и о суровости природы,
крайней бедности и тяжёлых условиях жизни, усугубленных к тому же и известными
историческими коллизиями (политикой так называемого "большого скачка" и
культурной революции). Как пишет Цзя Пинва, его детство и школьные годы
представляли собой "тяжёлую и скучную жизнь, самым ярким воспоминанием от
которой осталось ощущение постоянного недоедания". В своём эссе Цзя Пинва рисует
картину будней многолюдной, но бедной крестьянской семьи, в жизни которой
своеобразно отразилась нездоровое состояние общества тех лет:
"В те голодные годы ругань и ссоры в большой семье не
прекращались ни на минуту, ведь прокормиться хотелось всем. Матушка Цзя, моя
бабушка, была наделена верховной властью, а четыре невестки, включая мою мать,
образовали как бы четыре "родовых группы", каждая из которых старалась урвать
себе что-нибудь повкуснее. Как говорится, буквально "рвали из рук ложку и
поварёшку". Ели, обычно, молча, уставившись глазами в общую миску. Когда из двух
ведер воды варили рисовую похлёбку, туда добавляли чашку жёлтых соевых бобов,
которые все до одного тут же вылавливались при первой же раздаче. Словом, это
была семья, которая точно также как и люди в коммуне тех лет страдала от
всевозможных социальных недугов и нужды. В таком семействе люди рано или поздно
превращаются в настоящих зверей. Крушение его было неизбежным". [А,3,137]
Ураган культурной революции не обошёл семью Цзя Пинва – отец
писателя, простой сельский учитель (которому писатель посвятил эссэ-воспоминание
"Вспоминаю отца"), оказался, как и многие в то время, в "коровнике" долгие годы
был оторван от семьи. "Отец, - вспоминает Цзя Пинва, - этот честный, но чересчур
требовательный учитель, был в это время оклеветан: его назвали
"контрреволюционером с историческим прошлым" и, уволив с работы, сослали на
трудовое перевоспитание". Позднее он, правда, помог отцу реабилитироваться, но
тот был душевно сломлен и тяжело запил.
Сам Цзя Пинва, в те годы ещё совсем мальчик, надолго потерял
возможность учиться. Именно тогда чтение различных, добытых по случаю книг
("обычно это были какие-то часто без начала и без конца древние сочинения")
становится своеобразной отдушиной в его тяжёлой жизни и формирует особое
мироощущение, в котором любовь к древней литературе и истории сочетается со
склонностью к безудержным фантазиям и вымыслу, что позднее отразилось и в его
собственном художественном творчестве. Вот как он сам пишет о том действии,
которое оказывало на него чтение:
"Все эти сказочные твари, духи, черти и люди, живущие на небе и
под землёй, с наступлением ночи начинали кружится в моей голове... Я одуревал во
время чтения и ещё больше дурел после него. Не удивительно, что я постоянно
отлынивал от крестьянского труда". [А,3,138]
Его живой, восприимчивый ум противился однообразию повседневной
крестьянской жизни, равно как суете грубых забав ровесников. Уже ребёнком он
сторонился шумных мест людского скопления, предпочитая им уединённые прогулки по
живописным окрестностям:
"Повесив за спину корзину, я отправлялся в горы за хворостом или
травой, собирал корм для свиней. Каждое новое незнакомое место в горах вызывало
во мне страх и в то же время – чувство необыкновенного восхищения. Я даже не
могу описать, насколько богатыми и прекрасными казались мне все новые уголки в
этом запутанном горном лабиринте Шанчжоу. Иногда, когда на краю обрыва, я вдруг
видел одинокий цветок, пленяющий взор своей красотой, я садился на корточки и
долго-долго не мог отвести от него взгляда". [А,3,138]
Мечтательность и возвышенность чувств уже тогда сочетались у
Цзя Пинва с меткой наблюдательностью и пытливостью ума, желанием осмыслить,
проникнуть мыслью и чувствами за поверхностный образ явлений окружающей
действительности. Это качество, рождающее особое поэтическое настроение, стало
одной из основных стилеобразующих особенностей его эссеистики. В своей
автобиографии Цзя Пинва вспоминает об эмоциональной насыщенности своих детских
переживаний:
"Я любил взбираться повыше на ступени нашего дома и наблюдать за
далекими белыми облаками, бегущими у вершины горы, где были разбросаны небольшие
горные селения. В эти минуты я чувствовал биение своего сердца: что это за
облака, откуда они и куда бегут? Иногда я наблюдал за большим ястребом, медленно
кружащим в небе. Любопытно, есть ли у этой птицы спутница жизни? – думал я.
Частенько я ходил на пруд, где росли лотосы, что у въезда в поселок, и там
любовался голубыми стрекозами, тихо сидевшими на листьях лотоса. Меня
переполняло чувство любви к этим прекрасным существам, мне нравилась их чарующая
безмолвность. Но как только я пробовал накрыть рукой одну из них, та, сверкая
своими бирюзовыми крылышками, начинала отчаянно биться в моей ладони. И я тут же
отпускал ее, чувствуя внезапную растерянность и опустошённость". [А,3,139]
Несмотря на трудности жизни, Цзя Пинва всё же удаётся попасть в
Сиань и поступить там на филологический факультет Северо-западного университета,
по окончании которого в 1975 году его распределяют на редакторскую работу в
издательство "Жэньминь чубаньшэ". После он работал редактором журнала "Чанъань"
– печатного органа литературной организации Сиани. Все эти годы Цзя Пинва много
пишет. Он пробует свои силы в поэзии, эссеистике, в жанре короткого рассказа и
очерка. Первой его крупной публикацией становится рассказ "Пара носок" (1975г.)
в журнале "Искусство масс" провинции Шэньси. Затем в 1976 году публикуется его
рассказ "Дитя солдат" ("宾娃"). В 78 году он получает премию за рассказ "Полная
луна" ("满月儿"). А в 79 году выходят его "Записки о горном крае" ("山地笔记"), которые
приносят писателю первую известность.
Действие большинства ранних рассказов и повестей Цзя Пинва
разворачивается в селениях горного края Шанчжоу. С одной стороны, хорошо зная
нравы и обычаи этих мест, их особую историю, Цзя Пинва создаёт внешне вполне
реалистическую картину действительности, вплетая в свои произведения элементы
местного, национального быта, правдиво изображая нравы и психологию его
обитателей. С другой стороны, автор особым образом "препарирует" этот реальный
мир. Используя бытующие в этих краях легенды и сказания, он воспроизводит в
своих произведениях фольклорные и этнически самобытные пласты национального
миросозерцания – своеобразные "архетипы сознания", привносящие в произведение
некий "глубинный" смысл, особую образность и поэтичность.
Создаваемый писателем образ Шанчжоу оказывается гораздо сложнее
и богаче простого "отражения" реальной действительности. Он представляет собой
своеобразное "виртуальное" художественное пространство, переходящее из
произведения в произведение писателя – особый мир со своей мифологизированной
реальностью, в котором судьбы героев переплетаются с местными преданиями и
легендами, создавая необычную, порой мистическую атмосферу. Ареал Шанчжоу в
творчестве писателя становится чем-то вроде фолкнеровской Йокнапатофы или
городка Макондо в произведениях Габриэля Маркеса. Об этом Цзя Пинва писал в
послесловии к одному из своих последних романов "Селение Гаолаочжуан", 高老庄
(1998г.):
"Материалом почти всех моих произведений служили Шанчжоу и
Сиань, но я никогда не говорил о них, как о неких реальных административных
единицах. О чём бы я в своей жизни ни писал, это всегда было одним из проявлений
некоего воображаемого мира, который, собственно, и является исходной точкой
моего творчества". [А,8,141]
Собственно и само слово Шанчжоу – лишь древнее название этого
ареала (ныне он называется Шанло - 商洛). Первоначально Цзя использовал его, чтобы
"предостеречь от проведения прямых параллелей с жизнью реальных людей". Однако
постепенно оно превратилось в творчестве писателя в своего рода символ некоей
"иной, вымышленной реальности" (любопытно, что произведения Цзя Пинва как бы
"вернули" это старое название в употребление не только в литературной среде, но
и среди самих жителей этих мест).
Эта "иная реальность", являясь плодом художественного
осмысления, подчиняется в произведениях писателя особым художественным законам.
Герои в повестях и романах Цзя Пинва живут больше и глубже реальных жителей
Шанло. Их жизнь непосредственно сопряжена с мифами, легендами и поверьями, во
многом определяющими их поведение и чувства. Этот своеобразный "устный фонд"
является образом их мышления, способом восприятия действительности, которому
свойственна значительная степень поэтичности.
Одним из проявлений этого "мифологизированного мышления" в
произвелениях Цзя Пинва являются тексты многочисленных песенок-хуагу или
"циньцян" (циньских напевов), в которых раскрываются самые потаённые мысли и
чувства героев, порой неведомые им самим. Так, например, Тяньгоу, главный герой
повести "Небесный Пёс", подчиняясь импульсу, "исходящему будто из самого
сердца", изливает в таких песнях-импровизациях свои неосознанные чувства и
подсознательные желания. Таково его влечение к "хозяйке" – жене колодезных дел
мастера Ли Чжэна, у которого он работает подмастерьем:
Луна на небе, словно медный гонг,
А в нём сидит Богиня Луны,
Видно у Пса помутился разум,
Ведь захотел он Луну проглотить.
Сердце его будто светлеет,
А на душе спокойно и хорошо.
Ну, разве он в чём-то виноват?
Эта песня – прямое продолжение его чувств, она начинается там,
где останавливается его мысль, как бы помогая ему излить самое сокровенное. Все
образы этой песни наполнены скрытыми смыслами. Богиня Луны, восседающая на
"медном гонге" – это намёк на "хозяйку" – "Бодисатву", как он её про себя
называет. А Пёс (согласно легенде, пожирающий во время затмений Луну) – это он
сам, Тяньгоу (его имя в переводе как раз и значит – Небесный Пёс). Характерна
последняя строчка, в которой он как бы пытается оправдать своё невинное чувство.
Вот другой пример:
"Тяньгоу любовался чистой гладью неба и вспоминал "Бодисатву",
раскатывавшую ему лапшу долголетия. И сердце его наполнялось таким блаженством,
будто он был царём-королевичем, восседающем на золотом троне. В последние
несколько лет у Тяньгоу появилась привычка петь, вот и в этот раз песня родилась
прямо у него в груди, и он запел:
Скучаю по сестричке – не могу сдержаться,
Четырёх лян травы поднять нет сил.
А услышу за стенкой сестрички голос,
И уж горы перевернуть готов.
В своих повестях Цзя Пинва использует как "авторские",
непосредственно связанные с действием (и, скорее всего, специально придуманные к
случаю) песни (как, например, приведённые нами две песенки Тяньгоу), так и
"народные" – реальные примеры из бытующей в Шанчжоу устной песенной традиции.
Эти простые, грубоватые по манере исполнения, но преисполненные своеобразного,
порой озорного юмора и даже некоторого поэтического изящества песни являются
выражением раскрепощённого, привольного состояния духа, единения человека с
окружающим его миром. Как пишет автор, "в них слышится величие и захватывающая
дух красота горных пейзажей Шанчжоу".
На восемьдесят ли течёт Циньчуань,
жёлтая пыль повсюду к небу взмывает.
Тридцать миллионов людей
горланят циньские песни.
Люди здесь упиваются радостью,
когда удаётся отхватить плошку с лапшой,
И страшно горюют,
если в ней не хватает перца.
Этим песням, их местному колориту и поэтическому своеобразию Цзя
Пинва посвятил отдельное эссе "Циньские напевы" ("Циньцян", 1985г.). Особенность
подобных песен, по словам автора, заключается в том, что "исполнитель, поющий –
он же является и слушателем. Это – творчество, рассчитанное на себя, когда ухо
внемлет губам, а слова свободно льются из самой души". Важной функцией этих
песен является создание атмосферы народного мироощущения. Кроме того, они
привносят в произведение особую мелодику народной речи, а с ней и поэтичность
простой крестьянской жизни.
Другой отличительной особенностью "художественного пространства"
в ранних произведениях Цзя Пинва является сам язык повествования. Ему,
во-первых, присуща та универсальность, которая даёт возможность составить
представление о речевой характеристике жителей горных районов Шанчжоу – мест,
где, как мы уже писали, происходит действие большинства повестей и романов Цзя
Пинва. Реальная разговорная стихия врывается в тексты его произведений в форме
многочисленных удвоений, экспрессивных "усилений", своеобразных "грамматических
аномалий", встречающихся в устной речи жителей Шанчжоу. Этот язык характерен
своей особой выразительностью, связанной с образным богатством речи местного
населения. Всевозможные идиоматические выражения (поговорки, просторечия и
чэнъюи) с одной стороны привносят в повесть мелодику живого, разговорного языка,
с другой, являются неким культурным кодом, концентрирующим в себе представление
героев об окружающей их действительности. Можно даже сказать, что все эти
афоризмы представляют собой своего рода "образный" способ мышления,
основывающийся не столько на логически-рациональном подходе, сколько на неком
изустном наборе моральных императивов вроде: "одну ночь вместе – супруги на всю
жизнь" (一夜夫妻百日恩) или "там, где чувства и веселье, там и беды с несчастьями"
(有情有乐,才招来有祸有悲的) или "когда в обществе смута, тогда и в душах грязь" (社会混乱,人心也龌龊)
или, например, "спасти человеческую жизнь, что построить семиярусную буддийскую
пагоду" (救人一命,胜造七级浮屠). На одном из таких речений (своего рода неписаных
жизненных правил) строится сюжет повести "Небесный Пёс": "招夫养夫" можно перевести
как "принять в дом [второго] мужа, чтобы кормить [первого] мужа", что значит,
что женщина может повторно выйти замуж, не разводясь с первым мужем, если тот
больше не в состоянии прокормить семью. Именно такой выход и предлагает своей
жене и подмастерью Тяньгоу получивший тяжёлое увечье колодезных дел мастер Ли
Чжэн, чтобы спасти жену и сына от нищеты. Строя повествование на этом архаичном
обычае, автор заостряет внутренний конфликт в душе Тяньгоу, испытывающего
запретное влечение к жене мастера – своего учителя.
Одной из особенностей языка ранних повестей является
использование целого ряда книжных, пришедших из старой литературы выражений. Это
связано с тем, что в своём творчестве писатель стремится не только отразить язык
определённого ареала, но и найти возможность выражения в формах письменного
языка, в основном пришедших к нему из старых повестей и романов. Умело вписывая
элементы старого литературного языка в устную речь героев, Цзя Пинва как бы
приближает разговорную речь к нормам языка литературного, книжного, присутствие
которого обогащает язык произведения. С этим связано присутствие в тексте
произведений Цзя Пинва целого ряда специфических сказовых формул. Например,
распространённый сказовый зачин – "Рассказывают, что..." (据说…) или выражение,
появляющееся в концовке (в последнем предложении) повести "Предел человеческий",
где главный герой Гуанцзы безуспешно пытается разыскать "привидевшуюся" ему
наяву девушку, обликом напомнившую ему его давно погибшего брата Ламао: "Повсюду
спрашивал о девушке, но в четырёх селениях восьми деревнях (四乡八村) никто не
видел".
В ранних повестях много выражений, которые будучи вырванными из
первоначального контекста древних произведений, используются автором как образы
определённых типических действий или ситуаций, причём часто они лишь отдалённо
ассоциируются с непосредственно описываемой действительностью, сообщая ей
некоторую ироничную "театрализованность". Такова, например, характеристика
"неистового аппетита", с каким вернувшийся домой после рабочего дня колодезных
дел мастер набрасывается на еду: "как волк заглатывал, как тигр хватал" (狼吞虎咽).
Такого рода архаическая "метафорика" довольно часто встречается
в текстах всех повестей и романов Цзя Пинва. Многие критики даже иронически
обозначили его стиль, как "полу-вэньянь, полу-байхуа" (半文半白), как бы намекая на
искусственность такого стилистического сплава. Однако нельзя сказать, чтобы
использование автором "готовых оборотов" из старой литературы объяснялось лишь
стремлением "украсить" стиль, придать ему вычурную "поэтическую прелесть". Для
Цзя Пинва эти выражения являются неотъемлемой и естесственной частью живого,
разговорного языка. Вот как сам он объясняет своё особое пристрастие к
использованию элементов книжного языка:
"Язык художественного произведения должен быть добротным и
свежим, для чего необходимо учиться как у древних литераторов, так и у самых
обычных крестьян. В языке провинции Шэньси встречается множество слов и
выражений, которые на слух кажутся самыми обычными просторечиями, однако при
перенесении на бумагу они выглядят с неким даже изыском. Это те жемчужины
древнего языка, которые, попав и оставшись в разговорном языке простого народа,
превратились в так называемые "речения". Собирая и используя их в своих
произведениях, я стараюсь оживить в языке многие уже давно забытые вещи".
[А,8,164]
Этот мотив собирания "жемчужин образности" народного языка
обыгрывается в одном из последних произведений писателя – романе "Селение
Гаолаочжуан", главный герой которого – вернувшийся в свою родную деревню
городской житель Цзы Лу – начинает увлечённо и с наслаждением записывать
колоритные и, порой, на удивление "изысканные" (高雅的) речения из языка
односельчан.
2. От эссе и очерков к роману.
В большинстве произведений Цзя Пинва, в том числе и самых
ранних, всегда было ярко обозначено цельное художественное ядро. Уже в его
очерковой прозе конца семидесятых стремление к эстетическому и философскому
осмыслению действительности явно превалирует над просым
фактологически-описательным подходом. Писатель не просто старается отразить
колорит и своеобразие природы, быта и нравов, характерных для описываемых им
мест, и тем самым как бы "очаровать", или "развлечь" читателя; его внимание в
гораздо большей степени привлекает неоднозначность и парадоксальность жизненных
явлений. Именно это художественное ядро становится определяющим в его эстетике,
на протяжении всех лет его профессиональной писательской деятельности. Далее мы
постараемся выделить основные этапы в развитии художественной манеры Цзя Пинва в
период, предшествовавший написанию романа "Тленный град" (1993г.) –
произведения, наиболее отчётливо воплотившего в себе эстетическое и
мировоззренческое кредо писателя. Хотя оговоримся, что предлагаемое здесь
разделение этого периода (от начала 80-х и до начала 90-х) на три этапа –
довольно условно (некоторые произведения середины 80-х по своей стилистке могут
соответствовать установкам начала 90-х, равно как и наоборот), но такой подход
поможет яснее отразить основные мировоззренческие и эстетические изменения, в
результате которых возникли предпосылки к созданию "Тленного града".
I.Начало 80-х.
"Очерки о Шанчжоу". "Шанчжоу:житейские истории". Роман
"Шанчжоу".
Одной из особенностей ранней (начала 80-х) эстетики Цзя Пинва
является отсутствие четкой границы между повествовательными и эссеистическими
произведениями. Так, например, некоторые произведения этого периода ("Бумажный
змей" ("风筝"), "Рыбак" ("钓者"), "Одинокий флейтист" ("空谷萧人") и др.), вошедшие в
его сборники эссеистики вполне можно назвать своего рода мини-рассказами, а
такие его повести как "Записки о горном крае" ("山地笔记") или "Пятьдесят третий"
("第五十三个") первоначально были опубликованы как сборники эссе и очерков. Книга
"Очерки о Шанчжоу" ("商州初录", 83г.) тоже задумывалась как сборник эссе, однако
после публикации были приняты в литературных кругах за повесть "нового типа",
соединяющую в себе композиционную размытость, облегчённую сюжетную ткань и
смысловую многоплановость. Это произведение мало похоже на обычную повесть, в
основе которой лежит рассказ о жизни ограниченного круга вполне определённых
героев. "Очерки" представляют собой, предварённые общим предисловием, 13
небольших отдельных рассказов, каждый со своими собственными героями и сюжетом,
никак не связанными между собой. Однако на уровне целого произведения эти
казалось бы разрозненные части обнаруживают определённую взаимосвязь и в общем
контексте оказываются с друг другом в отношенях своего рода
"взаимодополнительности". Все части так или иначе посвящены жизни Шанчжоу: "одни
– географическим особенностям этих мест, другие – историческим преданиям, третьи
– местным нравам и обычаям, разгулу бандитов, новейших переменах в жизни местных
крестьян, тревогам и горестям стариков, нетерпению и стремлениям молодых", –
пишет литературный критик Фэй Бинсюнь. [Б,7,124] Опубликованные через два года
"Житейские истории Шанчжоу" ("商州世事", 1985г.) имели такую же структуру.
С точки зрения так называемой "критики новой волны" и "Очерки"
и "Житейские истории" по своей структуре являются "воплощением современного
эстетического сознания", однако формальные истоки этих произведений лежат в
области традиционной китайской историографии и краеведения, которые через призму
истории, географии, этнографии, разного рода местных обычаев, забавных слухов и
анекдотов, сведений о жизни исторических личностей старались представить как
можно более полную и достоверную картину жизни данного ареала. Такой способ
многомерного и взаимодополняющего описания создаёт особый эффект "исторической
глубины" и "пространственной гибкости", который вряд ли достижим для обычной
повести того же размера с выраженным сюжетом.
Как для повестей, которыми всё-таки являются "Очерки" и
"Житейские истории", эта взаимодополняющая структура дала им большую свободу в
самовыражении, позволяя сочетать в рамках одного произведения рассказы о древней
и современной истории края, об особенностях природы, обычаях и нравах местных
жителей, о традициях, сказках, разного рода слухах и удивительных происшествиях.
В обыкновенной повести писатель бывает скован композиционными связями,
условностями развития основной интриги, а также необходимостью дать обобщающую
трактовку. Тогда как "эссеизированные" повести Цзя Пинва составлены из серии
независимых рассказов, представляющих собой разноплановые, вольные по форме и
содержанию описания. При этом заключительная функция обобщения как бы
делегируется самому читателю, что, помимо прочего, создаёт эффект эстетической
вовлечённости последнего в творческий процесс.
Подобная "эссеизированная" структура повествования позволила
писателю с большей свободой проникнуть в самые сокровенные сферы природы,
общества и человеческих чувств. Отказываясь от формы чисто повествовательного
произведения, автор, кроме всего прочего, получил возможность по-новому
взглянуть на окружающий мир – на горы, воды, травы и деревья, птиц и животных.
Они более не служили фоном человеческой жизни или материалом, с помощью которого
бы раскрывались чувства и переживания персонажей, но образовали особую цельную
реальность, частью которой являлись и сами люди. В тринадцати
очерках-рассказцах, которые составляют "Очерки о Шанчжоу", природа, история,
сказки, мифы, местные предания, реальные человеческие судьбы представляют собой
как будто бы совершенно разрозненные сферы. Однако, соединяясь в сознании
читателя, они образуют цельное, живое представление о Шанчжоу.
Кроме того, такого рода структура привлекала писателя
возможностью использования различных стилей, традиционно используемых в
сказаниях, очерковой прозе, путевых заметках, неофициальных хрониках, записках
об удивительном. [Б,7,125] Включение в произведение всех этих стилей,
относящихся к так называемой "бессюжетной прозе", послужило не только
многомерности изображения жизни, но и придало особую гибкость и изящество языку,
свободно сочетающему самые разнообразные манеры письма.
После "Очерков" примерно к середине 80-х Цзя Пинва написал ещё
несколько повестей о родном крае. Среди них "Маленькая Луна, песнь первая"
("小月前本", 85г.), "Декабрь – Январь" ("腊月-正月", 85г.), "Люди из долины Куриное
гнездо" ("鸡窝洼的人家", 85г.), в которых также в скрытой форме присутствовала
структура "Очерков", хотя уже наметилась тенденция к усилению сюжетного,
повествовательного начала. В повестях этих лет начинает проявлятся интерес
писателя к особенностям психологии жителей Шанчжоу, от внешнего, несколько
отстранённого разглядывания своих героев он постепенно переходит к анализу их
внутреннего мира, его всё больше занимает процесс развития характеров. Однако в
данный период его творчества эти изменения остаются лишь своего рода тенденцией
и пока не являются определяющим стилеобразующим фактором.
Закончив повесть "Декабрь – Январь", Цзя Пинва решил написать
большее по объёму и масштабности произведение о Шанчжоу. Так на свет появился
его первый роман. Автор так и назвал его – "Шанчжоу" (1987г.). Это новое
произведение (его можно назвать романом очеркового типа) по своей структуре
продолжало и в то же время развивало стилистику "Очерков". Оно также
использовало принцип "взаимодополнительности". Однако если повесть состояла из
14 не связанных друг с другом небольших рассказов, то в романе уже
присутствовала сквозная сюжетная линия.
Роман "Шанчжоу" состоит из 8-ми глав, каждая из которых в свою
очередь делится на три эпизода. Все первые эпизоды в каждой главе представляют
собой напрямую не связанные с основным сюжетом рассуждения об истории и обычаях
этих мест, следующие два – собственно сюжет. Цзя Пинва намеренно "выделяет"
бессюжетную очерковую часть, придавая ей обособленно-независимую форму, а затем
равномерно чередует "рассуждения" с собственно развитием сюжетной линии. Этим
автор старается намеренно разрушить линейность, равномерно затягивая развитие
описываемых событий, что способствует эффективному взаимодействию элементов
сюжета и так называемого "культурного фона". По утверждению критика Фэй Бинсюня,
этот приём восходит ещё к средневековым династийным хроникам, но в то же время,
тут заметно влияние и латиноамериканского модернизма. В качестве примера он
приводит роман Варгоса Льосы "Тётка Хулия и писака", в котором используется так
называемый "метод вставных эпизодов". В нечётных главах этого романа автор
развивает основной сюжет, в чётных же он помещает небольшие истории, никак не
связанные с основной фабулой. Эти небольшие истории используются лишь для того,
что бы подчеркнуть социальный фон и создать объёмность описания. Проводя
аналогию с романом Цзя Пинва, Фэн Бинсюнь замечает, что по своей функции
"бессюжетные" эпизоды в романе "Шанчжоу" соответствуют чётным главам романа
Льосы, однако пользуясь этим приёмом Цзя Пинва достигает большей степени
обобщения, а кроме того в этих "вставных эпизодах" он в полную силу проявляет
достоинства своей эссеистической манеры, которая по своей природе как мы уже
отмечали, тяготеет к сюжетной художественной прозе. Ей в гораздо большей
степени, чем обычному очерку, присуща субъективная авторская оценка, элемент
художесвенного вымысла, сюжетная разработанность с известной долей психологизма.
Несмотря на свою очерковость (то есть привязку к реальным местам, ситуациям и
людям), они преисполнены той художественностью, которая приближает их к
произведениям сюжетной прозы (можно сказать, что все эти "вставные эпизоды"
представляют собой небольшие рассказы или даже мини-новеллы). Таково, например,
одно из "лирических отступлений" в "Очерках о Шанчжоу". Цзя Пинва рассказывает
удивительную и пугающую историю одного жившего когда-то в этих горных краях
старого врача. Однажды ночью к нему в дверь поскрёбся ("постучался", как говорит
автор) своей лапой волк. Врач сначала страшно испугался, но волк не проявлял
признаков агрессии, и врач догадался, что тот явился к нему за помощью. В конце
концов, он всё-таки решился последовать за диким зверем, и тот привёл его к
тёмной пещере, в которой их ждал другой раненый старый волк. Обработав его раны,
старик бросился бежать, боясь, что волки теперь могут его убить. Но те его не
тронули. Однако примерно через месяц волк вновь появился у его дверей и оставил
там несколько серебряных и медных побрякушек, принадлежавших, как догадался
врач, недавно съеденному ребёнку. Обезумев от чувства вины за жизнь убиенного
волками младенца, старый врач в отчаянии покончил с собой, бросившись вниз с
высокого утёса. Это не просто "страшная история", которой автор пытается
"развлечь" досужего читателя. В ней Цзя Пинва исследует глубокий нравственный
конфликт, доводя героя до его внутреннего предела. Неслучайно образ старого
врача в рассказе отмечен печатью психологизма: в его душе профессиональная этика
("врачебный долг") вступает в жестокое противоречие с его моральными убеждениями
(волки – враждебные человеку существа, и спасая им жизнь, он приговаривает к
смерти других людей – Цзя Пинва намеренно усиливает трагизм этого внутреннего
конфликта, ведь жертвой оказывается "невинное дитя"). Как мы видим, в его
очерках-эссе таится значительный элемент "повествовательности" (своего рода
литературности и интерпретационной субъективности), которая позволяет писателю
шире раскрыть врата его художественной фантазии. Это "сюжетное художественное
ядро", как мы увидим, всё отчётливей будет проявляться в произведениях Цзя и
постепенно займёт доминирующее положение в его творчестве.
Помимо достоинств подобного повествовательного метода
("вставных эпизодов") обращает на себя внимание и существенный его недостаток –
отсутствие органичной связи между первым, "вставным" эпизодом и следующими за
ним двумя сюжетными. Если в меньших по объёму произведениях такое
"комбинирование" создавало оригинальный художественный эффект, то для романа оно
стало дополнительным затрудняющим восприятие фактором. Эти две части могли бы
вполне существовать по отдельности – как своего рода культурологическое эссе и
повесть. Иллюстрируя эту мысль, Фэй Бинсюнь приводит цитату из знаменитой "Оды
изящному слову" Лу Цзи: "Прекрасны по отдельности, но дважды ущербны вместе"
(离之则双美,合之则两伤). Две выделяемые части в повести "Шанчжоу" соединены методом грубой
склейки, что, выражаясь в терминах теории уставного (нормативного) стиха,
является "утратой спаянности" (失粘).
II. Середина 80-х.
Повести "Небесный Пёс" и "Предел человеческий".
Характерной особенностью произведений последующего периода
(второй половины 80-х годов) является стремление Цзя Пинва обрести утраченную
"спаянность" текстов, с чем связано его активное обращение к жанру повести (или
большого рассказа). Показ этнографических, исторических и общественных реалий
уступает в его творчестве место иследованию сложности и неодназначности
человеческой натуры, то есть психологизму. В самих сюжетах повестей акцент
смещается на конфликтность, драматизм и остроту коллизий, которые составляют
"художественное ядро" его произведений в этот период творчества. К наиболее
значительным произведениям этого периода относятся повести "Небесный Пёс" ("天狗",
85г.), "Хэйши" ("黑氏", 85г.), "Предел человеческий" ("人极", 85г.), "Древняя
крепость" ("古堡", 86г.), "Поминальная бумага" ("火纸", 85г.) и др.
Острые и занимательные сюжеты в них связаны с жизненной драмой
героев (что, кстати, говорит о том, что "остросюжетность" этих повестей – не
просто дань моде или требованиям читательского рынка). А в основе их жизненной
драмы всегда лежит тот или иной конфликт – конфликт с нормами и моралью
окружающего мира (в который, например, вступает Гуанцзы – главный герой повести
"Предел человеческий" и который в повести "Застава Будды" ("佛关"91г.) примет
характер метафоры противостояния в мире добра и зла), конфликт в отношениях с
близкими людьми (например, роковая размолвка между братьями в повести "Предел
человеческий") или конфликт нравственного выбора, который разворачивается в душе
самого героя (таковы мучительные переживания Тяньгоу, главного героя повести
"Небесный Пёс", который никак не может разрешить для себя моральную проблему,
когда ему приходится стать "вторым мужем" тайно любимой им женщины).
Писатель намеренно ставит своих героев в экстремальные,
критические жизненные ситуации. Он как бы "поверяет на прочность" их
нравственные принципы, их чувства и искренность их помыслов. По словам самого
Цзя Пинва, "в экстремальной ситуации, в какое-то мгновение правдивость и
лживость, уродство и красота могут наиболее отчётливо проявиться в человеке".
Доводя своих героев до их жизненного предела, автор стремится обнажить их
истинную природу, суть их взаимоотношений с миром и с другими людьми.
Двигателем действия в повестях середины 80-х годов является
конфликт характеров. Интересно, что в большинстве повестей этот конфликт
развивается в рамках своеобразного "треугольника". Образ "любовного
треугольника" традиционен для европейской литературы, где в применении к
западному обществу он уже осмыслен, как образ обыденной жизни, как некая
приемлемая форма человеческих отношений, порой даже и как образ приятного (даже
соблазнительного) времяпрепровождения.
В повестях Цзя Пинва этот "треугольник" иной, он гораздо более
экстремален, потому что является вынужденным положением, в которое герои
попадают по воле непредвиденных (чаще всего, несчастливых) обстоятельств. Такова
ситуация в повести "Небесный Пёс", где один из главных героев повести –
колодезных дел мастер по имени Ли Чжэн, чувствуя свою полную беспомощность и
мучаясь от сознания того, что стал обузой для жены и сына (так как серьёзно
покалечившись во время рытья колодца, он теперь не мог даже подняться с
постели), вспоминает о древнем обычае, согласно которому женщина может "позвать
в дом другого мужа, чтобы поднять на ноги прежнего" и уговаривает жену взять
себе второго мужа. В повести "Предел человеческий" тоже присутствует своего рода
"треугольник": во время наводнения на реке Лохэ два закадычных друга Гуанцзы и
Ламао бегут к реке "поживиться добром", которое бурная река смыла с берегов в
горных районах и принесла в низовья, но среди плывущей рухляди они случайно
замечают человеческое тело, которое вытаскивают на берег. Спасённая ими молодая
женщина впоследствии оказывается причиной роковой размолвки друзей, приведшей к
гибели (самоубийству) Ламао. Подобную схему мы находим и в повести "Застава
Будды", где отношения трёх главных героев также замыкаются в своего рода
"треугольнике": юноша Куй, от лица которого в повести ведётся повествование
тайно влюблён в девушку Дуйцзы – возлюбленную его двоюродного брата. С одной
стороны, характер чувств, которые он испытывает к девушке далёк от плотского
вожделения, и он не чувствует ни зависти, ни ревности по отношению к своему
двоюродному брату. Его потаённая любовь не мешает Кую во всех ситуациях помогать
влюблённым и искренне сочувствовать брату, когда тот попадает в беду. Однако
порой потаённое влечение даёт себя знать, как, например, в эпизоде, когда
охваченные страстью влюблённые совершенно забывают о его существовании, Куя
охватывает острое чувство обиды.
Сложность и вариативность развития взаимоотношений героев в
каждой из трёх повестей (несмотря на схожую структуру "треугольников" (женщина и
двое мужчин)) объясняется тем, что конфликт заложен уже в самих характерах
персонажей. Так в повести "Предел человеческий" автор сразу же подчёркивает
определяющую дальнейшее развитие действия разницу в моральных качествах
"наречённых братьев" (в своё время их родители, которые дружили семьями решили
поженить своих детей, но поскольку в обеих семьях родились мальчики, то их стали
называть братьями). Гуанцзы – человек, хотя и простой, но благородный и
бескорыстный. Ему не нужна какая-то особая "благодарность" от спасённой им
женщины. Это он говорит, что "спасти человеку жизнь – всё равно, что построить
семиярусную буддийскую пагоду". Эти слова звучат в его устах не просто как
поговорка, или поучение, это – важная сторона его мироощущения, его этическая
установка. У Ламао нет тех высоких нравственных качеств, которыми обладает
Гуанцзы. Он человек импульсивный, подверженный различным соблазнам и к тому же
немного трусоват. Так в сцене, где братья вылавливают из воды девушку, Ламао не
лезет в реку. Стоя на берегу, он пугает Гуанцзы водяным, который якобы "может
утащить его под воду". Даже зная, что женщина не погибла, он вряд ли бы полез в
воду спасать её. Тем не менее, именно у него мы видим меркантильный подход
собственника, желающего "поживиться добычей", получить награду за поступок,
которого он на самом деле и не совершал.
Цзя Пинва намеренно сводит вместе таких различных по своим
внутренним установкам героев. Писатель как бы "провоцирует" конфликт этих двух
характеров, заставляя их п р е д е л ь н о проявить свою природу. Поэтому, когда
на следующий день Гуанцзы узнаёт о том, какую "плату" его друг взял со спасённой
женщины (её тело), гневу его нет конца. Грехопадение Ламао наносит удар по его
этическим идеалам простого, но чистого человека. Охваченный яростью и чувством
стыда за близкого ему человека, он покидает дом Ламао и возвращается к себе в
деревню. И даже когда осознавший свою вину и пристыженный Ламао приходит к нему
просить прощения, Гуанцзы остаётся неумолим. Чтобы окончательно унизить брата,
причём унизить именно "за скотство", он подносит ему пищу, предназначенную для
кормления ослов. Не вынесший такого унижения и презрения от самого близкого ему
человека, Ламао кончает жизнь самоубийством.
Цзя Пинва подводит своих героев к их "человеческому пределу". К
этическому и моральному пределу, у которого человек раскрывается во всей своей
полноте, когда в его недостатках проступает и скрытая ранее добродетель, а
видимые достоинства, вдруг, оборачиваются своей негативной стороной. Так,
согрешивший Ламао оказывается на "пределе" понимания своей вины, а
"добродетельный" Гуанцзы своей (тоже "предельной") жестокостью косвенно доводит
брата до самоубийства. Чувство вины за содеянное останется у Гуанцзы до конца
его дней. Смерть Ламао становится поворотным моментом в жизни главного героя и
изменяет весь его внутренний мир. В его отношении к людям уже больше не будет
прежней суровости. Память о погибшем по его вине Ламао станет внутренней
пружиной его действий впредь на долгие годы.
Герои повести "Небесный Пёс" также сталкиваются со сложной, как
им кажется, даже неразрешимой жизненной ситуацией, связанной с необходимостью
нравственного выбора. Такова ситуация Тяньгоу – центрального персонажа этой
повести, который уже став "вторым мужем" "хозяйки" (так он называет любимую им
женщину) не смеет и помыслить о близости с ней при живом, хотя и превратившемся
в беспомощного инвалида супруге. Автор подчёркивает чистоту и целомудренность
чувств Тяньгоу и "хозяйки" (что немаловажно – эти чувства взаимны). Однако
"нерешительность" Тяньгоу причиняет страдания и самой "хозяйке" и колодезных дел
мастеру, который понимает, что становится помехой в жизни любящих друг друга
людей. Поэтому мастер, видя сколь мучительна такая жизнь для всех троих, решает
пойти на крайнюю меру – самоубийство. Таким образом он освобождает себя от
страданий, а других от двусмысленного положения, в котором они оказались из-за
его болезни. Но самоубийство мастера не есть акт отчаяния, как это было со
"сломавшимся" Ламао. Дойдя до предела своего несчастья, мастер, тем не менее,
остаётся, по словам автора, "крутым, крепким мужиком". И его самоубийство
обусловлено самой его изначальной природой, ибо смерть для него была
"освобождением, своего рода законченностью жизни, он смотрел на смерть как на
возвращение к истокам".
Завязкой сюжета в повестях этих лет часто служит некое событие,
нарушающее нормальный ход жизни героев. В повести "Небесный Пёс" таким событием
становится несчастье, случившееся с колодезных дел мастером, которое ставит всю
его семью на грань выживания. В повести "Предел человеческий" это – появление
таинственной незнакомки в жизни двух братьев. Такой сюжетный ход (нарушение
обыденности) – вполне традиционен для китайской повествовательной литературы. И
автор сам указывает на эту связь. Так в повести "Предел человеческий" он как бы
выхватывает какую-то сцену из старых историй об утопленницах: Несмотря на жалкий
вид Лянлян (спасённой женщины), внешность её поражает братьев. Они, как пишет
автор, "красоты такой сроду не видывали". Братьям она кажется существом из
другого мира. Тут невольно вспоминается появление нежитей-обольстительниц из
новелл Пу Сунлина. Однако при вполне традиционной завязке само развитие сюжета
не соответствует старому литературному шаблону. В повестях середины 80-х
"двигателем" сюжетного действия являются не сверхъестественные "превращения
красавиц-обольстительниц", не вещие сны или таинственные знаки из потустороннего
мира, а действия или решения, обусловленные характерами самих героев. Такова
"жестокость" Гуанцзы по отношению к своему "названному брату" или решение
колодезных дел мастера Ли Чжэна "добровольно покинуть этот мир"; самоубийство
для него – не акт отчаяния, а своего рода "искомый выход", ведь именно это
решение приносит ему душевное успокоение. Для повестей этого периода характерен
углублённый психологизм с подробной разработкой характеров и с элементами
философского осмысления основ человеческого бытия (такова, например, мысль об
отношении к смерти как "возвращению к истокам" в повести "Небесный Пёс"). Кроме
того, писатель всё больше внимания начинает уделять так называемым "интимным
сферам" в жизни своих героев, стараясь раскрыть в их внутреннем мире неведомые
им самим тайные мысли и чаяния, как бы "помогая" им, по словам самого Цзя Пинва,
"через сексуальные аспекты жизни до конца познать настоящие человеческие
ценности".
III. Конец 80-х – начало 90-х.
Роман "Нетерпение". Повесть "Застава Будды".
К концу 80-х в произведениях Цзя Пинва отчётливо проявляется
тенденция к религиозно-философскому осмыслению жизни. Хотя критика упрекала
писателя в своего рода "замкнутости" (или, как говорили некоторые из критиков,
"местечковости") – нежелании покинуть "милый сердцу горный край Шанчжоу" и
обратиться к изображению города, Цзя Пинва уже давно покинул прежний
"идеализированный Шанчжоу". На смену поэтической идеализации этого горного края
приходят размышления о суетности и быстротечности жизни в полном соблазнов и
иллюзий мире "багровой пыли" (红尘), каким отныне Шанчжоу предстаёт в его
произведениях.
На первый план в его творчестве выходит тематика поисков смысла
жизни, что проявилось в одном из програмных произведений этого периода романе
"Нетерпение" ("浮躁", 1988г.). С ним писатель как бы вырвался из узкого круга тем
"почвенической" литературы (乡土文学) и вышел на совершенно иной уровень
художественного осмысления действительности. Многие критики считают этот роман
лучшим его произведением, недаром за него Цзя Пинва получил сразу две престижных
премии – премию сианьской писательской организации (1988г.), а также
американскую литературную премию "Пегас" (1988г.). Почти сразу же роман был
переведён на английский и французский языки. Его издания вышли также в Гонконге
(89г.) и на Тайване (91г.).
В этом романе Цзя Пинва удалось на философском уровне обобщить
духовное состояние общества тех лет. Символом подобного состояния является само
название романа. Слово "нетерпение" (浮躁) – это базисная для писателя
эстетическая категория, непосредственно связанная с его буддийским мироощущением
– это особое состояние внутренней напряжённости, взвинченности (躁), некой
суетности и подвешенности, своего рода духовной турбулентности, в котором
пребывают обитатели мира "багровой пыли". Слово "фу цзао" передаёт идею жизни
подобной листу дерева, бессмысленно плывущему (浮) по течению времени. Иероглиф
"浮" в этом слове вызывает целую цепочку ассоциаций и смысловых перекличек с
буддийской (чаньской) философией – это и "虚浮" – "пустое блуждание", в каком
пребывает живущий в миру человек, и "浮世" – "плывущий" мир (иллюзорный мир
сансары), "浮生若梦" - "жизнь, как сон", "浮沫" – "пена дней". Здесь вспоминается и
"浮生六记" – название знаменитой книги Шэнь Фу ("Шэсть записок о быстротекущей
жизни") повествующей об эфемерности и быстротечности человеческой жизни.
В отличие от произведений предыдущего периода, действие этого
романа разворачивается между городом и деревней. Жизнь главных героев проходит
как бы на стыке этих двух жизненных пространств. Надо заметить, что тема
"города", "городской жизни" появлялась уже в повестях середины 80-х. Для героев
этих повестей город и сама городская жизнь были своего рода "соблазном", манящим
миром "больших возможностей" (так, главный герой повести "Небесный Пёс" Тяньгоу
отправляется в город в надежде преуспеть и подзаработать денег, а Лаоэр, герой
повести "Старая крепость", одержим навязчивой идеей "провести ночь с городской
девушкой"). Главные герои романа "Нетерпение" также находятся во власти
многочисленных соблазнов городской жизни. Их существование представляет собой
метание между родным селением и городом, они живут между двумя мирами, до конца
не принадлежа ни одному из них. Ощущение суетности, сумбурности бытия
пронизывает собой всё действие романа. Но, изображая это состояние, автор не
просто старался нарисовать критическую "картину нравов" своего времени. Как
признавался сам Цзя Пинва, этот роман в значительной степени явился попыткой
портрета современников и собственно автопортрета – своего рода придирчивого
самоанализа.
Поиском корней этого духовного разлада были посвящены и другие
произведения этого периода: роман 1989-го года "Зачатие" ("妊娠"), повести "У Куй"
("五魁", 90г.), и "Селение Мэйсюэ" ("美穴地", 91г.), рассказ "Масляная Луна" ("油月亮",
92г.). От критики социальной действительности писатель постепенно переходит к
исследованию духовно-религиозных истоков этого явления. Цзя Пинва обращается к
плану широких философских и экзистенциальных обобщений, в которых всё отчётливей
звучат пессимистические нотки. Особый акцент он делает на сексуальных сферах
(как наиболее тесно связанных со скрытыми, потаёнными сферами человеческой
психики). В эти годы в его творчестве также усиливается внимание к мистическим и
эзотерическим истокам родной культуры, как попытка проникныть за границу видимой
реальности к сокрытым сферам жизни. На такого рода символике (книга Перемен,
"восемь триграмм", знак Великого Предела) построена повесть "Драконов смерч"
("龙卷风", 87г.). Но наиболее отчётливо все эти черты проявились в повести 1991
года "Застава Будды" ("佛关").
Важным идейным элементом содержания повести, формирующим его
смысловой план, является идея борьбы добра и зла. Цзя Пинва художественно
переосмысливает эту борьбу как противостояние в мире красоты и уродства.
Бездуховному миру уродливого селения Фогуань в повести противопоставлена
величавая красота изображений Будд и Бодисатв. В то же время разделение проходит
и между людьми: юная девушка Дуйцзы и её избранник с самого начала как бы
противопоставлены грубым, злым и меркантильным жителям Фогуань, несущим в себе,
по мысли автора, некое обобщающее начало. Молодые люди, герои повести, предстают
перед читателем как бы существами из иного мира – мира красоты и добра. Трагедия
их жизни является следствием чуждости их тому миру, в котором они живут, и
царящим в нём законам. Подчёркивая их несоответствие окружающей действительности
("выпадение" из рамок "обыденного"), автор наделяет главных героев особыми
качествами – прежде всего, внешней красотой, резко контрастирующей с внешностью
жителей "селения уродов" (по-китайски "丑镇" – так называли свой посёлок сами его
обитатели), а также добротой, отзывчивостью и талантом. Главным героям повести
оказывается ближе мир прекрасных ликов святых, чем мир тупых и жестоких
односельчан, которые воспринимают красоту юной Дуйцзы и её возлюбленного (брата
Куя) как нечто "колдовское", "бесовское", но при этом тайно завидуют им. Молодые
люди чувствуют, что в мире, в котором они живут, всё извращено и перевёрнуто:
красота здесь оказывается уродством, а уродство пытается выдать себя за
совершенство. Брат Куя говорит: "В этом мире красивым может быть лишь Будда, но
как может человек стать таким же красивым как Будда? Только через колдовство или
обман". Истинная, нравственная красота героев проявляется в осознании своего
уродства перед ликами Будд и Бодисатв. Жители же Фогуань, всё больше погрязая в
невежестве, бездуховности и распутстве, всеми возможными способами стремятся
искусственно "приукрасить" свою внешность. В последней главе автор приводит
слова из одного написанного уродливыми иероглифами объявления:
"Исправление плоскостопия, проколы в ушах, изменение формы
бровей и разреза глаз, выведение родинок, всё – ради улучшения вашего
прекрасного облика!"
Таков характерный знак времени – символ ложного, извращённого
понимания красоты жителями этого селения (но только ли селение имеет в виду
автор?), которым оказывается недоступно осознание своего духовного убожества
перед высшей красотой.
Высшего осознания духовной красоты достигает в повести лишь
Дуйцзы ("прекрасная и возвышенная"), которая перед своим уходом из Фогуани, уже
потеряв зрение и свою прежнюю прелесть (и этим как бы освободившись от того
внешнего, наносного, лживого, что связывало её с этим миром), говорит Кую:
"Наверное в уродстве и есть спасение от порока". Эта рефреном звучащая в повести
фраза и завершает произведение. Она служит разрешением возникшего между девочкой
(дочерью Дуйцзы) и Куем спора о внешней красоте и в тоже время как бы подводит
итог всему произведению, говоря уже о красоте духовной, связанной с пониманием
собственного несовершенства.
"Да, малышка, наверно, мы все уроды, – сказал я, засмеявшись, и
усадил её себе на плечи. – Но и уродство может противостоять пороку". [А,6,324]
Разговаривая с ребёнком, Куй отвечает и на какие-то свои
вопросы. Говоря об "уродстве", он имеет ввиду и некрасивость ребёнка и слепоту
Дуйцзы, как бы "освободившейся" от своей внешней красоты. Внешняя ущербность для
него не есть ещё "порок" в полном смысле этого слова. "Порок" – в стремлении эту
ущербность скрыть и искусственно ”разукрасить”.
Затронутая в повести тема человеческого духовного
несовершенства, как известно, является одним из исходных постулатов буддийской
доктрины. Как мы уже писали, творчество писателя в значительной степени
проникнуто буддийским мироощущением. Об этом говорят многие образы, слова и
термины, к которым прибегает писатель. Об этом свидетельствуют и сами сюжеты.
Так, например, буддийской идеей воздаяния проникнуто повествование в повести
"Предел человеческий" где главный герой Гуанцзы всей своей жизнью как бы
"искупает" совершённый им грех. Повесть "Небесный Пёс" тоже не лишена
религиозного звучания. Но, пожалуй, наиболее отчётливо это проявилось именно в
"Заставе Будды". Связь с буддийской тематикой проглядывается уже в самом
названии. ”Застава Будды” – это перевод названия самого селения Фогуань (佛关), в
котором происходит действие повести. В то же время в связи с сюжетом
произведения оно осмысливается и как образ некоего Предела или предельного
рубежа, преодоление которого олицетворяет собой смысл существования героев. В
одной из первых глав повести мы находим один, на первый взгляд, незначительный
эпизод, который оказывается своего рода кодом к философскому подтексту всей
повести: только что приехавшего в Фогуань Куя, его брат ведёт к развалинам
старой заставы. Там братья обнаруживают каменную стелу с вырезанным на ней
стихотворением:
Пришёл сюда в холщовой одежде,
И в холстине бреду обратно.
Тёмной ночью я ищу здесь приюта,
И стыдно взглянуть на чина с заставы.
С первого взгляда, кажется, что стихотворение не таит в себе
какой-то особой, тем более религиозной идеи. Писатель разъясняет, что это
стихотворение намекает на историю о провалившемся на государственных экзаменах
студенте, который, возвращаясь домой, решает остановиться на той же заставе, где
уже когда-то останавливался, когда ещё полный надежд направлялся на экзамены.
Холстина (布衣) – холщёвая одежда – символ низкого происхождения, образ
простолюдина, который указывает на то, что лирический герой стихотворения и есть
простолюдин. В то же время, в контексте всего повествования холстина становится
как бы символом бренного мира, в котором пребывает простой человек
(просто-людин). Провал на экзаменах в этом плане означает не столько жизненное
поражение или позор, сколько то, что человек так и не смог вырваться из плена
мирской юдоли (то есть не смог сбросить с себя мирской личины – холстины).
Лирический герой возвращается на заставу таким же простолюдином, всё таким же
человеком из бренной плоти и крови – ему так и не удалось преодолеть своей
"заставы".
Брат рассказывает Кую, что это стихотворение написал известный
поэт эпохи Тан, житель Шанчжоу. Он дважды ездил в Чанъань (современный Сиань)
участвовать в экзаменах и дважды провалился. Стихотворение он написал, когда
второй раз возвращался через Фогуань с экзаменов. Потерпев фиаско, он не
отчаялся, а наоборот, стал ещё упорнее готовиться к их сдаче и через год снова
проехал через эту заставу, направляясь в Чанъань. В конце концов, он сдал
экзамены и стал большим чиновником.
Застава, о которой идёт речь в этом отрывке – это тот рубеж,
который должен преодолеть человек, чтобы выбраться из потёмок суетного бытия,
прекратить слепое блуждание по жизни. Эта попытка может закончиться для человека
трагедией, а может принести радость, открыть ему новый неизведанный мир. В этом
смысле все главные герои повести стремятся предолеть каждый свою "заставу". Одни
из них терпят сокрушительное поражение, другие на этом пути обретают понимание
жизни и духовную свободу. (ведь и сейчас есть выражение "过关", что значит:
"пройти заставу", "преодолеть жизненный рубеж"). Главная героиня повести Дуйцзы,
"преодолев свою заставу" и, как она говорит, "полностью рассчитавшись с селением
Фогуань", сама становится святой (или архатом, Буддой) и навсегда покидает
селение – "заставу Будды".
Не проходит своей "заставы" брат Куя, который, будучи человеком
честным и благородным, тем не менее остаётся подвержен влиянию обманчивых
миражей этого мира – внешней красоты и богатства. Разбогатев, он решает, что
своими деньгами "может купить сердца людей": чтобы стереть память о собственном
позорном изгнании из селения, он решает на свои деньги построить в Фогуань
школу. Однако его богатство – его новое "божество" – не спасает брата Куя от
давней, затаённой ненависти односельчан. Его губит собственный прагматизм и
подверженность влиянию мирских иллюзий. Поэтому символично само постигшее его
"наказание" – разъярённые фогуаньцы набрасываются на него и отсекают ему
детородный орган – как выражается Куй, "корень мирской юдоли" (尘根). Автор
расширяет конкретную метафору "корня" до масштабов философского обобщения. Этот
буддийский термин как бы указывает на то, что постигшее брата Куя несчастье –
своеобразная кара, возмездие за поклонение ложным "божествам" бренного мира
"багровой пыли" (红尘).
Тема возмездия-расплаты звучит в повести и в истории Дуйцзы –
дочери старого художника, который воспринимает всю свою жизнь, как расплату за
прегрешения, совершённые ещё в прошлой жизни: Со слов Куя мы узнаём, что Дуйцзы
не была коренной жительницей Фогуани. Её семья первоначально жила в другом
горном селении. Но однажды её отец отправился в город, чтобы заработать денег.
Проезжая на своём пути через Фогуань, он остановился в расположенном неподалёку
храме Юньхуансы (Храм Счастливого Зачатия – название храма неслучайно и
многозначительно) и дал обет Будде: если ему посчастливится разбогатеть, то,
возвратившись сюда, он выроет пещеру и распишет её картинами с изображениями
Будды. Немного разбогатев, отец, блюдя свой обет, действительно возвоащается в
Фогуань. По пути в эти края заболевает и умирает его жена. Отец девочки
принимает этот удар как кару небес. Полагая, что в прошлой жизни он, наверно,
провинился перед Буддой, он решает посвятить всю оставшуюся жизнь рисованию
изображений святых.
История отца Дуйцзы вводит в повесть религиозный (чисто
буддийский) мотив поступков и их результатов ("причин и следствий"), то есть
мотив поступка и воздаяния, мотив искупления. Этот по сути кармический мотив
пронизывает всю жизнь и отца и самой Дуйцзы, которая, унаследовав ремесло
родителя, полностью посвящает себя изображению ликов Будды, дабы этим добрым
делом загладить неведомые ей проступки семьи. Эта же идея искупления окажется
определяющей и в решении отца Дуйцзы выдать дочь замуж за местного дурачка Бао
Гуя. Старый художник считал, что их семья в прошлой жизни как-то провинилась
перед людьми этого края. Поэтому неслучайной ему кажется и неожиданная смерть
жены, едва приехавшей в Фогуань, и его собственное "прозрение" – внезапно
появившееся умение рисовать Будд. В эту же схему автор вписывает и
необыкновенную красоту Дуйцзы, как её изображает писатель. Старик считает, что
дочь должна принести себя в "жертву", чтобы полностью рассчитаться за прошлые
прегрешения.
Высокая религиозность, которой проникнута жизнь девушки и её
отца в глазах Куя-повествователя (так считает и сам автор) противопоставлена, с
одной стороны, ложности буддийских храмовых действ, которые, как он выражается,
"стремятся превратить живого человека в подобие деревянного или каменного
истукана" [А,6,273], а с другой – псевдорелигиозности местных жителей, которые
вслед за отцом Дуйцзы вдруг начинают давать обет Будде, надеясь таким образом не
просветлеть духовно, но разбогатеть. Сама идея обета, таким образом,
превращается для этих людей в своего рода "выпрашивание" денег у Будды. В Дуйцзы
же Куй (и сам автор) видит ту подлинную и высокую духовность, которой недостаёт
жителям селения Фогуань. Поэтому неслучайным оказывается то, что, увидев в
первый раз росписи в пещерах, Куй сразу же замечает в изображениях Бодисатв
сходство с обликом Дуйцзы.
"Облик каждой из Бодисатв казался мне знакомым, будто я где-то
уже его видел, и я сказал об этом брату. Брат засмеялся и ответил: "Да ты ещё
ничего – чувствуешь мир Будды. А ты не заметил, что эти лики похожи на Дуйцзы?"
Как только он это произнёс, я почувствовал, что в этих изображениях Будды
действительно есть определённое сходство с Дуйцзы". [А,6,280]
Тут, через индивидуальные переживания Куя, автор как бы
"материализует" это духовное родство, отражая его во внешнем сходстве героини с
ликами Бодисатв.
Уже через много лет после своей последней встречи с Дуйцзы, Куй,
придя в пещеру, расписанную ликами восемнадцати архатов, замечает, что среди
восемнадцати изображённых ликов один оказывается – женским (!). Эти лики были
последними нарисованными Дуйцзы перед своим уходом из селения. Он, вдруг,
понимает, что она нарисовала самое себя, свой собственный лик и этим подвела
итог всей своей предыдущей жизни: она полностью исчерпала свой долг перед
Фогуань, преодолела свою "заставу", она как бы сама как бы стала Буддой.
Буддийская идея перекликается у Цзя Пинва и с символикой
даосской философии. Уход главной героини из селения (в конце повести) вызывает
ассоциацию с известной легендой о Лао-цзы, которому пришлось написать свой
трактат "Даодэцзин", чтобы получить возможность пройти через заставу и тем самым
обрести свой Путь – Дао, то есть – истину и свободу и продолжить свой путь в
будущее. "Преодолев" заставу ("过关"), он навсегда покинул этот мир, став частью
иного, более совершенного бытия. Неслучаен в повести также и образ бабочки
(Дуйцзы кажется главному герою человеческим воплощением бабочки-оборотня). В нём
– прямой намёк на бабочку Чжуан-цзы, символ вечного круговорота (круговерти)
жизни и в то же время зыбкости наших представлений о мире. Эти отдельные эпизоды
даосской мысли добавляют новые оттенки и обогащают традиционно буддийские мотивы
в произведении. В образе кокона, в котором Дуйцзы предстаёт Кую в видении,
даосское представление о внутренней трансформации человеческой сущности, как о
рождении особого "зародыша", которое слито с буддийским представлением о
святости (нимб над головой Дуйцзы).
Повесть "Застава Будды" по глубине философского осмысления жизни
выходит за рамки преимущественно реалистической манеры писателя предыдущих лет.
Кроме того, Цзя Пинва начинают сковывать узкие рамки повести с её сюжетной
детерминированностью и стилистической однородностью. Его романтическое
художественное видение начинает искать более широкие формы. Это служит причиной
того, что писатель вновь, но уже на новом уровне обращается к романной форме с
её широким охватом действительности, стилистической гибкостью и свойственной ей
глубиной обобщений. Надо заметить, что хотя Цзя Пинва не забывает про рассказ и
особенно любимый им жанр очерка-эссе (о чём говорит, например, появление двух
томов эссе в его собрании сочинений), на протяжении всего следующего периода его
творчества (девяностых годов прошлого века) основным для него становится именно
жанр романа. За период с 93 года (когда был опубликован открывший этот этап
роман "Тленный град") свет увидели ещё четыре романа: "Белые ночи" ("白夜", 95г.),
"Врата земли" ("土门", 96г.), "Селение Гаолаочжуан" ("高老庄", 98г.) и совсем новый
роман 2000 года "Вспоминая волков" ("怀念浪").